
«Паша, пес и блуждающие огоньки» «Pasha, a dog and jack'o'lanterns» 


|
Виктор Пивоваров «Действующие лица» Апрель 1997 Viktor Pivovarov «Dramatis personae» April, 1997 Милена Орлова english text На протяжении последних нескольких лет среди художников, принадлежащих к кругу московского концептуализма, особое распространение получил жанр ностальгической мемуаристики. К нему можно отнести и выставку Ильи Кабакова «Нома», и «Хроники» Эдуарда Гороховского, и журнальный проект Вадима Захарова «Пастор Зонд». Новая серия Виктора Пивоварова, датированная 1996 годом, также представляет собой разновидность жанра «по волнам моей памяти» – ее действующими лицами выступают реальные персонажи московской художественной (и литературной) сцены 1960-х – 1970-х годов. Некоторые из фигурирующих здесь имен можно было встретить на выставке Пивоварова «Метампсихоз», состоявшейся несколько лет назад в L-галерее. Но то были не лица конкретных людей, а их астральные сущности, закодированные художником в различные визуальные «псевдонимы». «Действующие лица» же тяготеют к портретной галерее – исполненные автором по памяти изображения давних друзей отличаются большим сходством. В то же время эти графические листы нельзя назвать классическими портретами, это скорее портреты-ситуации, в которых, помимо героев, запечатлена и сама атмосфера времени, тогдашняя обстановка мастерских, или, как на портрете Ивана Чуйкова, кабинета следователя КГБ. Автор иногда позволяет себе некоторые шаржевые вольности, как, например, в двойном портрете Михаила Шварцмана и Евгения Шифферса. Двух главных мудрецов московского искусства 1970-х годов он снабжает соответствующими аллегорическими и анатомическими атрибутами, в которых при желании можно распознать их символы веры – черный квадрат и Георгия Победоносца. Хотя каждый из листов является самодостаточным, независимым произведением, в совокупности они составляют нечто подобное старым альбомам Пивоварова. Отсутствие четкой логической связи между сюжетами и их последовательности отражает прихотливую избирательность памяти, подчас раскладывающей самые замысловатые пасьянсы, что не мешает впечатлению целостности, возникающему из соблюденного единства места и времени. Хотя это единство не классическое, у него есть своя формула «когда все были вместе». Наиболее показателен в этом смысле вид мастерской Кабакова с ее хозяином и завсегдатаями, среди которых можно узнать, например, Эрика Булатова и Оскара Рабина. Ныне члены этой общности не только разбросаны по разным уголкам мира, но и принадлежат разным художественным кланам. Отзвуком альбомной эстетики выглядят и подписи под рисунками, выполненные характерным анонимно-аккуратистским, «школьным» почерком. 6ынесенные из поля собственно произведений, они сохраняют генетическое, «перьевое» родство с их графической манерой. |

«Шварцман и Шифферс» «Shwarzman and Shiffers» 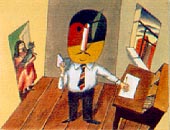
|
Помимо историко-биографических, семейно-альбомных мотивов в серии присутствуют и другие сюжеты, которые не имеют привязки к конкретным личностям, но без которых трудно представить себе судьбу любого из запечатленных Пивоваровым героев. Прежде всего это своеобразный обряд инициации, приобщения к запретному и «настоящему» искусству, поданный Пивоваровым как посещение некоего безымянного «Ученика Татлина», разложившего в тесной комнатке свои вытащенные из-за шкафа авангардистские сокровища. Другой сюжет – «Разговор об искусстве» – имеет отношение уже не к судьбоносному эпизоду, а к постоянной «духовной практике», без которой не мог бы осуществиться сам феномен московского концептуального искусства. Сцену дружеской беседы о прекрасном Пивоваров решает с той мерой наглядности и условности, которая выдает его опыт иллюстратора детских книжек. Незамысловатый прозаический пейзаж за расположившимися на железнодорожной насыпи юношами в этой композиции выглядит так же органично, как присутствие самого предмета разговора в виде «расчлененного» Давида, необходимого аксессуара любой художественной школы, и классического советского натюрморта с газеткой, бутылочкой и колбаской. Что-то среднее между «Завтраком на траве» и «Пикником на обочине».
Более всего пивоваровский цикл напоминает пресловутую детскую книжку с картинками, героями которой автор решил сделать своих друзей, которые с того момента, или с той эпохи, в которой он их застиг, успели превратиться из частных лиц в настоящих персонажей культуры, за каждым из которых тянется шлейф апокрифов. И хотя то время давно минуло, все они, слава богу, продолжают оставаться «действующими лицами» нашего искусства. («Художественный дневник», июнь 1997) |

«Я тебя жду, а ты все не идешь и не идешь» «I`m waiting for you, but you don't come» 

|
Milena Orlova In the last couple of years the artists from Moscow Conceptualist circle have been showing a habit for a kind of nostalgic memoirs. Exhibitions like «Noma» by Kabakov and «Chronicles» by Gorokhovsky, or the publishing project done by Zakharov fit into this category. The new series, made by Viktor Pivovarov in 1996, is also based on memories – dramatis personae here are real personages of Moscow art and literature scene of the 60s and 70s. Some of the names from the new series could have been seen in Pivovarov’s previous exhibition at L gallery, some years ago. However these were not people, but their astral substances, encoded by the artist in visual «aliases». On the contrary «Dramatis personae» is more like a gallery of portraits, drawn with a strong resemblance. At the same time the graphic pieces are not classical portraits; they are rather portraits-situations, which, besides characters, capture the very atmosphere of that time – like artists’ studios, or a KGB office (Ivan Chuikov’s portrait). The author allows himself some grotesque, as in the double portrait of Michail Shwarzman and Yevgeny Shiffers. The two major wisemen of Moscow art of the 70s are crested with allegoric and anatomic attributes, that might be recognized as their confession of faith – the black square and Saint George. While every graphic piece is self-contained, together they form something similar to the old Pivovarov’s albums. Whimsical selectiveness of memory leaves no logical connection between the works, playing sophisticated patience, which doesn’t prevent the viewer from feeling the whole atmosphere of time and place. Though this unity is not classical, it is based on its own formula – «when we were together». The most representative work pictures Kabakov’s studio with the host and friends, among them Erik Bulatov and Oskar Rabin. At present the members of that community are spread across the world and even belong to different art clans. Album aesthetics is also stressed by the labels, made in an accurate «school» handwriting; placed outside the drawings, they still have genetic relation to the images’ graphic manner. Besides historical, biographical and album motives, there are some other stories in the series – not related to concrete personalities, but still very important for understanding the fortune of Pivovarov’s heroes. First of all it’s the initiation ordinance, an oblation to forbidden and «real» art, shown by Pivovarov as a visit to some unknown «Tatlin’s follower», who spreads out his avant-garde treasures, taken from behind his cupboard. Another story («Dispute about art») reminds of perpetual «spiritual practice», without which the very phenomenon of Moscow Conceptualist art might not happen. The scene of a friendly conversation also reminds that Pivovarov has spent much time illustrating books for children. More than anything else, Pivovarov’s cycle resembles a children book with the pictures, which the artist decided to be his friends portraits. Since that time they have turned from private persons into actual personages of culture bearing apocryphal tails. Albeit the time passed by, all the characters are alive, thanks God, and still remain «dramatis personae» of our art. (from «Moscow Gallery Guide», June, 1997) |