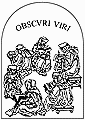 |
Андрей Монастырский english text
Понятие «актуальное искусство», которое стало популярно в Москве в 90-е годы, я понимаю как «социальное» искусство или, по крайней мере, обращенное к «социальному» за счет самого механизма «галереи», который, оперируя суммой эстетик выставляемых художников, преображает ее в некую коллективную, а, следовательно, социальную эстетику. Среди крайне малочисленных «актуальных» московских галерей Obscuri Viri, на мой взгляд, наиболее «благополучная» галерея, поскольку она связана с журналом «Место печати» и чисто галерейные тревоги и фобии, возникающие от привязанности галерей к какой-то одной площадке и к одному виду деятельности в тяжелых условиях почти отсутствующей художественной жизни Москвы, ее не очень касаются. Идеология и эстетика галереи всегда плавно перетекает в журнал, и наоборот, волей-неволей возникающая рутина периодического издания освежается, например, такой выставкой, как «Два журнала, печи, пирожки и рама». То есть связь с журналом «Место печати»— очень удачная стратегия галереи Obscuri Viri. Обычно у галереи существует только одна «дистанция»: между галереей и зрителями, и в этом есть некоторая «одномерность», что ли. В данном же случае мы имеем дело с более «углубленной» социально-эстетической перспективой. Кроме дистанции «галерея — зритель», здесь есть и пространство «галерея — журнал», а, следовательно и дополнительно контекстуальная дистанция «галерея — читатель», что достаточно необычно, сложно и перспективно во всех смыслах этого слова. Возникает процессуальность не только визуального ряда, но и текстового. В этом я вижу особенность текстов, которые используются на выставках Obscuri Viri, их отличительную черту от других текстов, широко используемых в «актуальных» московских галереях. У галереи есть своя четкая эстетико-идеологическая линия, которая, с одной стороны, может показаться жестко-модернистской с преобладанием стиля «героического декаданса» или «северного модерна» (вспоминаются символистские сборники «Фьорды» начала века)— например, выставки «Агент в Норвегии», «Игра в крокет», «Бархат, дерево, фарфор» или советский модернизм «Лаборатории великого делания», с другой стороны, и в этих выставках, и в самом контексте всех выставок галереи всегда присутствует постмодернистская ирония— знак культуры московской концептуальной школы, поскольку практически все художники галереи и журнала «Место печати» относятся к этой школе— И. Макаревич, В. Пивоваров, В. Захаров, П. Пепперштейн, Е. Елагина, С. Хэнсген и др. Таким образом достаточно сложный эстетический механизм галереи, работающий на каждой выставке, заставляет относится к Obscuri viri не только как к важному элементу художественной жизни, но и— в более широком смысле— как к существенной составляющей культурной жизни Москвы. Andrey Monastyrsky I understand «actual art», which became a popular term in Moscow in the 90s, as «social» art, or at least referring to the social» due to the «gallery» mechanism. This mechanism operates the sum of the exhibiting artists’ aesthetics and thus turns the gallery into a collective and respectively social aesthetics. Among the few «actual» Moscow galleries Obscuri Viri is, in my opinion, the most «welfare» one, because it is related to the «Mesto pechati» magazine and therefore it is less affected by specific troubles and phobias that come from the galleries’ binding to certain exhibition space or certain type of activity in the dire straits of the almost extinct Moscow art life. The ideology and the aesthetics of the gallery always flow into the magazine and the other way round – a willy-nilly routine of the publication is refreshed by such an exhibit like «Two magazines, stoves, pies and a frame». Conjunction with «Mesto pechati» magazine proves to be an extremely successful strategy for Obscuri Viri gallery. Typically the gallery has just one «distance»: between gallery and viewers, which is somehow «monomer». In our case there’s more «developed»’ socio-aesthetic perspective. Besides the «gallery-viewer» distance, there’s also the «gallery-magazine» dimension, and respectively an additional contextual distance between gallery and reader, which is quite unusual, complex and perspective in many senses. It generates processuality of both the visual, and the textual range. In my mind this makes the texts used at Obscuri Viri exhibitions specific and distinctive from other texts, widely used by «actual» Moscow galleries. This gallery has its distinct aesthetic and ideological direction, which, on the one hand, may seem strictly modernistic with predominance of «heroic decadent» style or «Northern modern» (reminding of the early 20th century Symbolist digests «Fjords») – exhibits like «Agent in Norway», «Playing croquet», «Velvet, wood, china». Or a Soviet modernism of «Opus magnum laboratory», on the other hand. These exhibits as well as the context of all the gallery’s exhibits always include posmodernist irony as the cultural sign of Moscow Conceptual school, because practically all the artists of the gallery and the «Mesto pechati» magazine belong to this school – I. Makarevich, V. Pivovarov, V. Zakharov, P. Pepperstein, E. Elagina, S. Haensgen and others. Thus the gallery’s complex aesthetic mechanism, working at every exhibition, makes Obscuri Viri an important element of the art process, and to wide extent, an essential constituent of Moscow’s cultural life. |