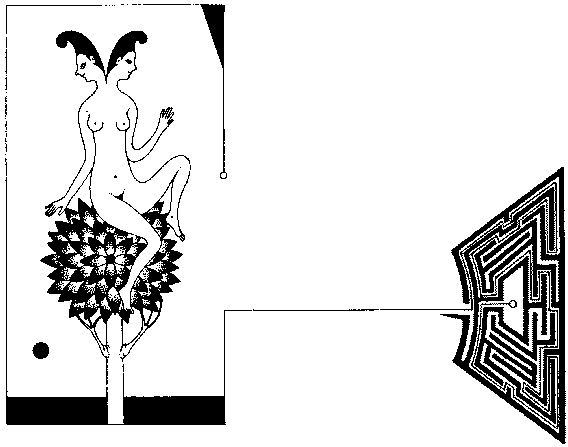|
Раздел I
Моделирование пространств
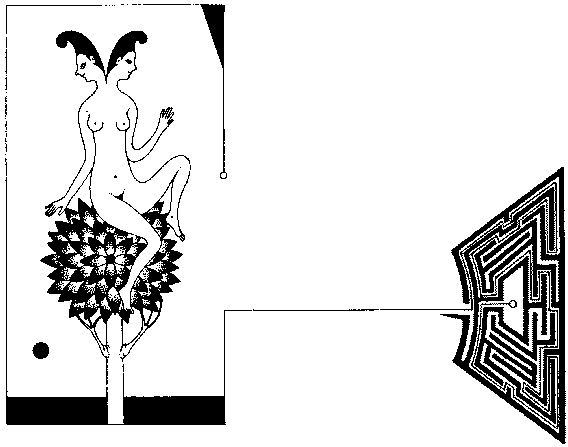
Инспекция
"Медицинская герменевтика"
(В.Федоров - П.Пепперштейн)
Коридор "Волшебной горы"
(диалог)
П.П. Я прочел "Волшебную гору" первый раз когда мне было тринадцать лет. С тех пор чтение и перечитывание этого романа превратилось для меня в своего рода болезненное увлечение, вроде хобби. Это длилось лет пять или шесть, как минимум. Естественно, я знал всех персонажей этого длинного романа, как своих собственных знакомых, постоянно мысленно увязал в фантазмотических разворачиваниях и "самопродолжениях" того или иного эпизода. Однако это вовсе не значит, что я помнил его наизусть - наоборот, в некотором смысле я постоянно "забывал" текст за исключением тех или иных внезапно всплывающих пятен. Это "волшебное", "магическое" забывание и было отчасти условием моего бесконечно увлеченного, полудетского, полумаразматического перечитывания. И теперь я тоже толком не помню, что там собственно говоря происходит, за исключением ряда эпизодов, торчащих, как кочки из болота. Собственно это и прельщало меня в этом романе: кокетливое и тяжеловесное сочетание бесконечной болотистости, вязкости, самопроваливания, самозасасывания текста и "белого лечащего обострения" - то есть вот эти вот внутритематические "острия", "пики вечного белого сверкания", торчащие там и сям прямо из этого болота. То есть парадоксальное соединение тех предельно разведенных ситуаций, которых мы рассматривали в предыдущем тексте как Альфу и Омегу падающего сверху вниз водопада смыслов - этого низвергающегося "мутного дао" пониманий, скрываний и других "ничтожных драгоценностей", низвергающихся с белых вершин припадка, обострения, сатори, психоделических прорывов и откровений на дно бесконечно отпущенности, бесконечной релаксации, устланное мякотью разложения "узких" краевых специализаций, илом распавшихся в труху хобби. Лет в четырнадцать я обзавелся этим нелепым и громоздким псевдонимом, который меня до сих пор удивляет своей неудобоваримостью - Пепперштейн. Это тоже плод моего неумеренного общения с классическим детищем Томаса Манна. Мне очень нравилась фамилия одного из самых впечатляющих персонажей - мингера Пеперкорна. В то же время это увлечение не было моим одиноким приколом, оно было общим для всего нашего круга общения тех лет. Мы об этом много говорили впоследствии, особенно с А.Монастырским и Ю.Лейдерманом, об этой нашей "круговой", "номной" страсти к "Волшебной горе". С другой стороны, ты не жил в то время в Москве, не был знаком с персонажами этого круга и не разделял их круговых увлечений. И, насколько я знаю, вообще не читал "Волшебную гору".
В.Ф. Да, я действительно не читал этот роман. В предыдущем тексте ты что-то говорил об отношениях текста и фантазма, который он вызывает в мозгу у читателя. В данном случае налицо смещение: текст и фантазм, порождаемый им в мозгу человека, который его не читал. Говоря метафорически, если текст поворачивается к читателю лицом и "отражается" в его вытаращенных глазах в виде фантазма, то к "нечитателю" он повернут затылком, то есть "полым затылком" своего собственного, интертекстуального фантазма, и отражается в "нечитателе", наоборот, в виде текста. Ведь все мы обладаем этими текстами-невидимками, текстами-ячейками непрочитанных и неведомых романов. Грубо говоря: если мы не читали роман, нам приходится его писать. Но писать "на фантазме", компенсируя неистинность последнего. Тут смешно вспомнить о психиатрическом различении "истинных" и "онейроид-ных" галлюцинаций. Читатель может гордиться тем, что его галлюцинации - истинны, зато "нечитатель" обладает более тонким, более эфемерным "пленочным" телом онейроида. Это две различные позиции, возможные по отношению к культуре вообще. И в этом, мне кажется, специфика "нового курса МГ". Ведь в теле группы произошло очень существенное изменение: вместо "читателя" Лейдермана появился "нечитатель" - я. Я ведь всегда старался занимать такую фантомную позицию - быть не "деятелем культуры", а ее галлюцинацией, "маленьким милым приведением", что ли, как в "Карлсоне" Астрид Линдгрен. Незаметным и совсем не страшным, обитающем где-то в "поле неразличения". Мне приходят в голову странные свидетельства о снах слепоглухих. В из сновидениях, как и в жизни, всегда присутствует фигура проводника, ритм его информирующих пальцев на ладони. Например, в случае кошмара с кладбищем и встающими из могил мертвецами. Для слепоглухого этот кошмар начинается с ужаса его проводника - рука холодеет, увлажняется прохладным липким потом, дробь пальцев становится неровной, сбивчивой. Затем начинается кошмар ощупывания могил и бесконечного удлинения и разветвления рук ощупывающего, его ладони, число который увеличивается, ползают по земляным краешкам ям и в них тыкаются своими лобиками эти вырастающие из-под земли мертвецы. Вот это вот - это ситуация читателя. Он как бы слеп в тексте, не видит, что там происходит, но ему сообщает об этом проводник - автор. И это же ситуация истинной галлюцинации, которая всегда страшновата, ибо терроризирует реальность своей внедренностью в ее ткань. Ситуация "нечитателя" - это ситуация зрячего, который вступает в зону повествования с изнанки. Он не находит там того, что является главным с точки зрения искусства - автора и его достоинств. То есть этого проводника у него нет. Он и так "видит" все, что там имеется, но только в качестве онейроидов. Ведь онейроиды - это образы, демонстрирующие свою неполноту, отрывочность, бутафорию, свою технику, свои "кулисы". Если вернуться к "Волшебной горе", то вот - я не читал этот роман, и единственное, что я могу сделать - это закрыть глаза и на меня будет наплывать эта "волшебная гора" - красивая, конечно, но как бы картонная, полая изнутри, посыпанная каким-то сахаром или солью вместо снега, и утыканная какими-то черными колпачками "волшебств". Еще я знаю, что там речь идет... что-то такое о больных каких-то, о медицине, и что героя зовут Касторп. И вот он возникает у меня как какая-то человекообразная бутылочка с касторкой, чье горлышки перевязано этикеткой, а внутри что-то горькое. Горькое и "оторопе-лое". Внутри оторопь, ступор. И вот как будто существуют целые касты таких бутылочек, целые иерархии, выстраивающиеся в какие-то шкафы, ступенчатые пирамиды, этажерки, "волшебные горки"... Мне кажется, что ситуация этого диалога, диалога "читателя" и "нечитателя", может быть прочитана как метафора пресловутого "диалога культур", то есть западной культуры и нашей. Возможно запад поэтому заинтересован в московском концептуализме, как в эстетической апологетике пустоты, построенной на новом, свежем, посттоталитарном материале. Ведь западная парадигма - это парадигма переполненности, переизбытка, переливания через край. То есть это переполненность "истинными галлюцинациями", чья истинность многообразно подтверждается и гарантируется: то есть, дескать, это галлюцинация, конечно, всего лишь галлюцинация, но фирма гарантирует, что вы сможете вычленить ее из, так называемой, реальности. Иначе говоря, они переполнены информацией проводников, авторов; их со всех сторон обстукивают эти влажные трепетные, невидимые пальцы. Поэтому они и завязывают диалог с "нечитателем". Как ты, который с тринадцати лет постоянно, как маньяк, читал "Волшебную гору" и весь набит сведениями, догадками, интерпретациями касательно того, что там происходит. И вот ты обращаешься ко мне, не читавшему этот роман, с тем, чтобы о нем побеседовать, хотя ты мог бы побеседовать о нем, скажем, с Андреем Монастырским, который, как и ты, отлично знает содержание, может "обсосать" каждый эпизод, блестяще интерпретировать влюбленности номы в это литературное произведение. Но ты обращаешься ко мне, видимо для того, чтобы я представлял в этом разговоре "пустоту" этого романа, а ты его наполненность, был репрезентантом его полой изнанки. Конечно, ты делаешь так потому, что это соответствует твоей идее "Швейцарии плюс медицины", то есть идее возвращения в Европу тех полых, пустых онейроидов, которые были вытеснены оттуда разрастающимися и якобы "плотными" "истинными галлюцинациями".
П.П. Совершенно верно. Мой прикол на этом романе и прикол номы на нем же объяснить не трудно. Здесь есть множество параллелей, аналогий, крючков, связок, зацепок... У меня, например, было постоянно "подозрение на туберкулез" в детстве, о котором я уже упоминал, и долгие реинкарнации этого подозрения в виде всяких "положи-тельных перке", обязательных визитов в туберкулезные диспансеры и прочее. У номы в целом была эта "герметичная педагогика", этот касторповский стиль цитирования, перетекание жестов, мимики, интонаций, эта "санаторность", смесь болезненности и комфорта, игривости и аскетизма, эти игры, и меломания, и культ прогулок в сочетании с "идеологическими музицированиями", и спиритические сеансы... В общем нома конца семидесятых годов узнавала себя в образе "Берггофа". Но вот что меня как-то особенно прельщало, останавливало на себе мое внимание: это особое отношение к смерти и болезни, "особое обустройство" этих тем у Томаса Манна. Это характерно не только для "Волшебной горы", но и для других его произведений. То есть это некоторая "безболезнен-ность", некоторая "одеревенелость" его поэтики в этих точках, напоминающая "одеревенелость" мест, подвергшихся обезболивающему наркозу. Это "обезболивание" позволяет его кокетливому и глубокомысленному "духу повествования" проницать все это повествование насквозь, а не гнездиться в его отдельных точках, ремарках и отступлениях. Собственно, этот "дух повествования" и есть дух наркоза. Можно сказать: ну, хорошо, это касается литературных персонажей, чья телесность всего лишь бутафорская "плазма фантазма", и боль там может быть только "идеологическая". Однако у Томаса Манна есть такой текст, довольно известный, под названием "Роман одного романа", где он описывает процесс создания "Доктора Фаустуса". И там довольно большой эпизод посвящен тому, как он сам попадает в больницу и ему делают очень серьезную операцию. Дело происходит в Америке в сороковые годы, и он там с восторгом описывает комфорт и достоинства больницы, мастерство и любезность врачей, и тотальность наркоза, который полностью избавил его от боли во время операции. Правда, первыми его словами после операции, произнесенными в полубессознательном состоянии, были слова: "О, как я страдал!", сказанные им по-английски. Это еще раз указывает на то, что его наркоз - это язык, язык описания, "дух повествования", чья наркотическая действенность распространяется и на физическое тело автора, связываясь в какой-то загадочной точке и взаимоотождествляясь с действием настоящего наркоза, настоящего анестезирующего препарата. Здесь можно говорить почти инфантильно: наша терапевтическая интенция мотивирована вовсе не "отвращением к бреду" (напротив, мы любим бред и заинтересованы в нем), а "отвращением к боли", которая расширяется до идеологически аффектированного "отвращения к неприятным ощущениям". И с этим связана наша глубинная установка, глубинная ориентированность, которую мне в этом проекте и в этой книге хотелось выявить с псевдомедицинской откровенностью: это установка на РАЙ. И здесь начинаются те наборы проблем, наборы "сложностей и странностей", о которых нам еще предстоит поговорить.
Однако уже сейчас мы можем разметить основные точки нашего интереса, парадигматику нашего рассмотрения этой темы. Первое, что важно для нас - это "РАЙСКОЕ НА РАЙСКОМ" - я так называю для себя эту проблему. Как "белое на белом" у Малевича. Ты прекрасно понимаешь, конечно, что я имею в виду, потому что мы не раз это обсуждали. Обычно "райское" выявляется, выделяется на "адском" фоне или на фоне "юдоли", что в данном контексте одно и то же. Причем, выделяется как-то слабо, неудачно, как будто человеческая фантазия как-то слегка неполноценно, неуверенно фантазирует "рай", он получается в литературном отношении как бы более бедным, чем "ад", Как "Рай" Данте, который сильно затирается, "затме-вается" роскошествами и суггестией его "Ада". Особенно если мы говорим о христианской парадигматике, где ад всегда странным образом в квадрате, "дабл хелл", ад всегда "двойной" и перевешивает Небеса, которые его репрессивно подавляют, побеждают. Ад выступает в данном случае означаемым основной массы, большинства, побеждаемого и возглавляемого меньшинством. И главное - "ад" интереснее, на его присутствии строится сюжет. Так же дело обстоит и с "коммунизмом" в советской идеологии. То есть было заявлено: "Наша цель - коммунизм", но сам коммунизм никогда не описывался детально, официальные идеологи (даже настоящие "верующие", каким был, например, Ленин) особенно не интересовались, каким будет это грядущее "царствие небесное на земле", оно было полностью заслонено блестящими сюжетами "классовой борьбы", и капитализм как действующая модель ада, был для них в тысячу раз интереснее и важнее, чем коммунизм. Все коммунистические идеологи постоянно писали, говорили и думали о капитализме. И Фрейд, построивший психоаналитическую утопию терапии неврозов, утопию вербализации, никогда не дал себе труда описать картину "исцеленного" сознания. Во всех этих случаях "исцеленность" была адекватна исчезновению, удалению из поля зрения - "исцеленность" - это испещренность достигнутой целью, остановка, окончание сюжета. У Ленина есть даже такое высказывание, что "в будущем, при коммунизме будет царить тотальная скука и все будут завидовать нам, революционерам, на долю которых выпало самое интересное - захватывающая борьба..." Это такое варварское сознание. Для меня это апофеоз варварского сознания - ассоциировать комфорт и скуку. Суть нашего эксперементирования - это выстраивание такой "суперутопистской" телеологии, литературно-идеологический проект "рая дискурсов", который был бы "выделен" не на адско-юдольном фоне, а на фоне другого рая, виртуально-комбинаторного, представляющего из себя констелляции "анастезированных" зон культуры. То есть наша задача - построить сюжет после серии окончаний, после целого цикла "исцелений" (что можно интерпретировать и как наборы распадов и исчезновений). Это обширная проблематика и, к тому же, основной предмет наших исследований, поэтому не буду сейчас в нее углубляться - это потребует слишком много времени и заведет нас слишком далеко. Может быть во второй части нам удастся чуть-чуть подробнее остановиться на этой сфере наших занятий - на пестовании идеологических "гомункулусов" в колбах медгерменевтической лаборатории, на этом проектировании нежизнеспособных идеологических эмбрионов, то есть идеологий, не способных к росту и к агрессии на реальность, но "прекрасных и искусственных". Но сейчас мне хотелось бы обратиться к одному эпизоду из "Волшебной горы"...
В.Ф. Извини, я перебью тебя. Прежде чем ты обратишься к этому эпизоду... Насчет этого "двойного ада". Помнишь, мы говорили о "Саде наслаждений" Босха, как об определенной перверсии западного теологического космопроектирования. Однако черезвычайно значимой перверсии, многое определяющей. Ведь там обратная ситуация: двойной рай, "дабл хевен". То есть вместо матрицы "АД-АД-РАЙ" появляется "теневая" матрица "РАЙ-РАЙ-АД". Это среднее звено, центральная часть триптиха, где традиционно должна быть "земная юдоль страданий", странным образом продублированная в западном христианстве в виде "ЧИСТИЛИЩА", там почему-то появляется САД НАСЛАЖДЕНИЙ. В этой подмене есть что-то общее с нашей деятельностью, некий прототип тех подмен, которые мы постоянно совершаем. Важно, что мы совершаем их на советском протоидеологическом фоне. Ведь "великий эксперимент" советской власти представлял из себя крайне болезненный, крайне "обостренный", паталогический синкретизм фундаментальных текстов - западных и восточных. Причем как бы сразу всех фундаментальных текстов, агрессивно разворачивающих свои фантомы в реальности. Ведь геополитическое тело СССР тянулось от Европы до Дальнего Востока, проходя через весь этот этнокультурный диапазон с разной степенью архаичности проницаемых культур. Важно, что это геополитическое тело было сплошным и непрерывным, в отличие от таких колониальных империй, как, скажем, Британская. Отсюда этот невероятный расцвет наук в Советском Союзе, наук о текстах, этнографии, лингвистики, исследовании фольклора, филологии и так далее. Все эти букеты ученых - Щербацких, Проппов, Алексеевых, Лотманов, Аверинцевых, Топоровых... В некотором смысле советская власть была создана для них, чтобы они могли "воочию" и даже "во плоти" натыкаться на эти развертывающиеся прямо в реальности фундаментальные тексты, исследовать их, хотя это все было опасно, репрессивно... Все равно, что исследовать живых крокодилов в естественных условиях - для ученого, занимающегося крокодилами, это драгоценная возможность, но можно потерять руку или откусят голову... И в советской науке была эта героика, это глубинное согласие на риск. Для нас же важна обратная, трансдискурсивная "фигура исцеленнности", о которой ты говорил, и она связана, конечно, с идеей искусственного, с фетишизмом искусственного. Да... с безболезненностью. Но она также связана и с пустотой.
П.П. Да она также связана с пустотой. Ты говорил перед этим о том, что московская концептуальная школа - это апологетика пустоты. Говорят же: "природа не терпит пустоты". Можно перевернуть эту коллективную мудрость и сказать, что "пустота не терпит в себе ничего натурального". Но точнее можно сказать, что как бы не было "искус-ственное" фактически наполнено различными техническими приколами, различными технологическими подтекстами, оно на каком-то уровне всегда "пусто".
В.Ф. Да, "искусственное" участвует в идеологической игре в ролях пауз, промежутков, а также в виде "окон", "дыр в иное", в "трансцендентное". Ты коснулся перед этим "райского проекта" как основного целеполагания Медгерменевтики. В этом смысле мы занимаемся распространением этой "постмедицинской исцеленности" на советскую протоидеологическую ситуацию разверзающихся текстов.
А что такое "постмедицинская ситуация"? Это наркоз, смерть без разложения, заморозка. Это наша сквозная тема в данной книге.
П.П. Да, поэтому мы столько внимания уделили мумии Ленина, как центру советской харизмы. То есть метафорически "замороженному" телу. Наш "рай дискурсов" представляется мне неким домашним музеем замороженных вариантов советского сквозного и непрерывного исследования, всех его специализаций. Этнографии, литературоведения... Поэтому так фонят "разные страны" - как объекты этнографического исследования. "Рай дискурсов" - это частная коллекция мавзолейчиков, таких ящичков с двойным членением, куда вместе уложены объект исследования и исследующая его дисциплина. В "шизокитай-ский лед" уложены вместе китайская культура и советская синология, в другой ящичек вместе сложены русская литература и русский структурализм советского периода. Это вот эти "двуспальные", брачные саркофаги, как в проекте инсталляции, где мы хотим положить в гроб Ленину спящую красавицу. Ты описываешь этот проект в тексте "Коридор Ленина". Объект и субъект спят вместе блаженным сном. Рука об руку. Это ли не рай?
Мумификация, или такого рода "заморозка" тела - это изъятие его из естественного цикла. В начале нашей деятельности в наших рассуждениях довольно важное место занимала идеологическая критика постмодернизма как апологетики циклов. Для нас было важно указать, что наличествует "неизвестное", этот "икс", который есть изъятие из цикла, неучастие в циклах. И этот "икс" играет огромную роль, он все видоизменяет. Это то, что в химических формулах называется "радикал". Название нашего проекта инсталляции с двуспальным гробом Ленина звучит как "Лиственный зал в совхозе Календарный". С одной стороны это название чисто онейроидное. Я действительно видел такой сон, где я нашел в каком-то старом журнале, вроде "Огонька" пятидесятых годов, такую цветную подретушированную фотографию, где была видна это "инсталляция" и была подпись - "Лиственный зал в совхозе Календарный".
Календарь, календарность - это и есть эти природные циклы. И это инсталляция - как бы сельский храм, храм какого-то совхоза. И при этом эта невянущая листва и неразлагающиеся "вечные" тела - это выделенность из цикла, которая своей "радикальностью" обеспечивает благополучное протекание этих циклов, благополучное чередование времен года, благополучную смену дня и ночи. "Лиственный зал" - это еще и ассоциация с лиственницами, синими елками, чья хвоя никогда не опадает, и которые окружают ленинский мавзолей, составляя важную часть его идеографии. Однако я вот что хотел сказать... Насчет домашнего музея этих мавзолейчиков, где содержатся объекты и субъекты исследований. Это совершенно верно, но это только одна часть "райских дискурсов" - ретроспективная. Это как бы традиционный рай, где находится то, что жило и умерло (в нашем случае "умерло" только условно, на уровне проекта). Но для нас не менее важна вторая часть этого "рая" - как бы "перспективная" Ее можно назвать "раем предрождения", "раем нерожденных детей". То есть для нас очень важен этот футурологический аспект, проектирование. Нам важно "прокладывать" мавзолейчики с мумиями-объектами другого рода - "колбами", о которых я уже говорил. Этими идеологическими эмбрионами, чистыми идеологическими возможностями, находящимися в свернутом состоянии. Эта свернутость должна быть, по идее, таким образом сконструирована, чтобы исключить возможность последующего "разворачивания", "рождения в мир". Эта свернутость должна и быть "раем".
В.Ф. Да, понятно. Подобный "рай нерожденных детей" описан в "Синей птице" Меттерлинка, но там все стремятся к рождению, рвутся в мир. Если представить себе, что эти дети - идеологии будущего, то наша задача проектировать их заранее непредназначенными для рождения. Чтобы они существовали только "виртуально", в пространстве возможного, но чтобы мы при этом могли сообщаться с ними через, своего рода, футурологический спиритизм. Это ставит традиционную для "МГ" контрацептивную телеологию в контекст "проблемы связи", "радиофикации возможного". Интересно, существует ли вообще такая практика спиритизма - вызывать души тех, кто еще не родился?
П.П. Наверное существует. Или это может случайно происходить. Вызывают какой-нибудь дух, он приходит и вдруг заявляет: "Это говорит ваша будущая внучка".
В.Ф. Но мы отвлеклись от "Волшебной горы". Ты хотел привести какой-то эпизод.
П.П. Да, мы отвлеклись. Я, впрочем, на это и рассчитывал. Ведь "Волшебная гора" - это пик, пиковое зачарованное пространство. Поэтому мне хотелось, чтобы этот диалог был отчасти прорывом сквозь пататопологическую фантоматику Швейцарии и связанных с ней нарративов в проективность нашей "Хобби-Харизмы", наших лабораторных исследований. Однако вернемся к пересекающимся повествованиям, к нашему тотальному швейцарскому "плюсу" - дискурсивному перекрестку.
Во второй части "Волшебной горы" есть глава под названием "Снег", где описывается видение, своего рода "сатори" Ганса Касторпа. Поскольку сквозная тема нашей книги - замерзание и заморозка, эта глава относится сюда непосредственно. И эти галлюцинации, как известно, сладостно-приятные галлюцинации, которые всегда сопровождают замерзание... Помнишь поэму Некрасова "Мороз Красный Нос", как там женщина замерзает в лесу и у нее галлюцинации... Это один из сакральных текстов русской литературы, включенный в школьные хрестоматии. Мы все его учили в школе наизусть. Что-то подобное случилось и Карторпом, правда, без летального исхода. Начинается все с того, как Касторп покупает лыжи и начинает кататься на них по горам. Метафорика лыж вообще относится к разряду наших лейтмотивов, начиная со статьи С.Ануфриева "Скольжение без обмана" 88 года. "Скольжение без обмана" - это, вообще-то, неумелое скольжение, приводящее к неожиданным блужданиям и видениям. Здесь, конечно, связка с "Коридором Штирлица", стрелка, идущая от пастора Шлага, который "совсем не умел ходить на лыжах". Ганса Касторпа застает в Альпах снежная буря, он теряет дорогу и, в конце концов, теряет сознание, притулившись у какого-то заколоченного бревенчатого сарая, затерянного в горах. Начинаются галлюцинации, он видит изумительный южный ландшафт, какой-то морской залив с божественной красоты островами, берег. И там такие идеальные люди... как на классицистических картинах: прекрасные юноши купают коней, прекрасные девушки танцуют, пары влюбленных сливаются в возвышенных объятиях, мать кормит грудью ребенка, и все ее почтительно приветствуют. В общем классицистическая картина идеального квазиантичного человечества, проникнутого взаимным уважением, гармонией и спокойно-радостным достоинством. Он видит затем некоего задумчивого юношу, сидящего несколько поодаль от остальных и глядящего на него, точнее на что-то за его спиной. И выражение просветленной приветливости сходит с лица юноши и заменяется непроницаемой суровостью. Здесь характер галлюцинации меняется, эйфория Касторпа сменяется тревогой. Он оборачивается и видит, что за его спиной колоссальные колонны какого-то древнего храма. Он входит в храм и видит статую двух женщин, матери и дочери, в классических одеждах. При виде этой статуи его окончательно охватывает тяжелое, неприятное ощущение. В глубине храма затем он видит отвратительное зрелище: две полуголые мерзостные старухи между какими-то горящими жаровнями разрывают на части младенца и поедают его куски. Пронзенный омерзением Касторп пробуждается к жизни. Галлюцинация завершается гносеологическим бредом, когда Касторп в полубессознательном состоянии осмысливает свое видение. Он понимает, что идеальный мир и царящая в нем гармония отношений, все эти прекрасные люди... все это держится на оглядке на "мерзости Храма". Иначе говоря, все в Раю живут с оглядкой на Ад, и это - условие Рая. Более того, Ад - это сакральное место внутри Рая, святилище. Все видение в целом выглядит как сильно банализированная идеологическая матрица. Переход от "прелестей" к "мерзостям" мотивирован, конечно, инстинктом самосохранения, нежеланием Касторпа "быть укрытым этой идеальной шестиугольной кристаллометрией", то есть снегом.
В.Ф. Я понимаю, что ты хочешь сказать этим пересказом. Для тебя это галлюциноз, подлежащий исправлению, объект терапевтических коррекций. Мы много обсуждали это последнее время: вхождение в галлюциноз с целью его "исправления", технического усовершенствования.
П.П. Да, и это производится посредством открепления от фундаментальных культурных блоков, через разрушение "цитат"... Это "модернизация", иначе говоря, напоминающая перманентную модернизацию вооружений.
В.Ф. В этом видении, конечно, сплошные "цитаты" - из Гете и так далее. И каждая из них - культурная ценность. И ты полагаешь, что расщепление этих ценностей, расшатывание коллективных проблематик с их укорененностью, навязчивостью и "антропоморфизмом", все это может дать в результате "очищенную" картину Рая, сюжет, построенный на сплошных "прелестях" и без всяких "мерзостей", без этих надоевших контрастов. Только нанизывание "прелестей" в геометрической прогрессии. Получить такой результат и значит "замерзнуть" в культуре, покрыться снегом, толстым одеялом шестиугольной кристаллометрии.
П.П. Да, поставить на себе крест. Швейцарско-медицинсикй крест. Но и крест плюса. Ведь ориентация на Рай - это, в некотором смысле, предел "положительного", "прогрессивного" сознания. Действительно, логика нашего анестезирующего дискурса приводит нас к расщеплению фундаментов, к откреплению от фундаментальных культурных ценностей, потому что они очень глубоко ассоциированы с "инстинктом самосохранения" - будь то "само-сохранение культуры" или "самосохранение человечества". Ведь боль, как таковая, это функция самосохранения. И наше идеологически аффектированное "отвращение к боли" должно привести нас к отрицанию "инстинкта самосохранения". Однако мне не хотелось бы, чтобы наш литературно-идеологический проект "Райское на райском" уперся только в нанизывание друг на друга ритуальных суицидов, с их последующим описанием. Я этим уже занимался достаточно долгое время в рамках такой индивидуальной практики как ПЗД (Практика Закрытого Действия), постоянно имитируя самоубийства в полном одиночестве, комфортно, и без каких-то суицидальных намерений (это надо упомянуть, чтобы не возникло ложных ассоциаций с комплексом юного Вертера). Конечно, разыгрывание условного группового суицида имеет для нас и сейчас большое значение. Однако наше отношение к проблеме самосохранения сверхутопично. То есть, по интенции, мы выносим самосохранение в отдельных технический этаж, где уже нет необходимости в культе болевых сигналов.
В.Ф. В этом контексте становится более понятным рассуждение о фашизме в "Коридоре Штирлица", этот псевдолаконовский пассаж о болевых сигналах, носителем которых для Гитлера якобы был коричневый цвет. И это отождествление нашей группы с Кукрыниксами, карикатуристами, антифашистами, издевающимися над садо-мазохистскими эксцессами "немецкой души", над этим "коричневым ойканьем". То есть мы делаем в некотором смысле карикатуры на Бойса и Шварцкеглера также как и Кукрыниксы делали карикатуры на Гессе и Геринга. Поэтому в Германии наши работы воспринимались как бестактные. Хотя мы делаем эти "карикатуры" не в контексте идеологической борьбы, а производим скорее "побочные" дружеские шаржи. Однако делать дружеский шарж на человека, который отрезал себе член (как это сделал Руди Шварцкеглер) крайне бестактно.
П.П. К счастью, для нас эти вещи действительно не являются центральными. Они слишком скандальны. Карикатуры для нас, в конечном счете, это свидетельства о психоделических искажениях коллективного зрения.
В.Ф. Однако, надо отдать себе отчет в том, что наш анестезирующий энтузиазм может быть воспринят западной культурой как диверсия, попытка подточить ее систему самосохранения, строящуюся на том, что она постоянно сама себя щипает (как человек, старающийся не заснуть в опасной ситуации) и пугает. Советская парадигма уже избавилась, исцелилась от параноидально-иппоходрического психоза самосохранения - и исчезла. Западная парадигма отнюдь не желает такого "исцеления", она бесконечно ценит свои "болевые сигналы" и прислушивается к ним с колоссальным вниманием настоящего, опытного, изощренного иппохондрика.
П.П. В западной культуре "отвращение к боли" сложно контаминировано с ценностью болевых сигналов. Мы воспроизводим западную иппохондрию в виде эстетического культа рам, культа строгой локализации наших экспериментов в рамках узко-лабораторных практик. Я лично думаю, что наша экспериментальная ориентированность, в результате, выльется в соединение некоторых литературных произведений. Ведь для нас нарратив всегда доминирует над дискурсом и "содержит его в себе". Нарратив "шире" дискурса, потому что он обладает сложно организованным пространством, тогда как дискурс обладает только направлениями, "стрелками" и блоками, располагающимися в пространстве. Черные стрелки дискурса соединяют один нарративный коридор с другим, сшивают их вместе. Однако внутри каждого коридора "дух повествования" (вполне в соответствии с поэтикой "Волшебной горы") баюкает и раскачивает, а потом "топит" в себе всех Нафт, Сеттембрини, Пеперкорнов, Мориарти, Холмсов, Штирлицев, Плейшнеров и прочих "дискурсантов". В результате мы попытаемся серьезно и без тени пародии, написать новый "Рай" - "Рай", которому не предшествовали бы ни "Ад", ни "Чистилище".
В.Ф. Можно считать, что мы уже отчасти приступили к этой работе. Но все-таки этот упрек по адресу культуры в том, что она якобы всегда удваивает фантазм Ада по отношению к фантазму Рая - странноватый упрек. К восточным традициям это вообще вряд ли применимо. Например, догматика японской школы буддизма Сингон вообще отождествляет Нирвану и Сансару. А восточно-христианская патристика? "Ареопагитики", например? Там именно то сплошное наслоение Рая, недостаточность которого в культуре мы почему-то чувствуем потребность компенсировать.
П.П. И все-таки теологический сюжет почти всегда построен как драма - драма постижения, драма приближения, драма улавливания "высшего", драма спасения души. Всегда присутствует опасность "прелестей", каких-то ошибок, неправильных ходов в игре. Присутствуют "капризы благодати", "капризы харизмы".
В.Ф. Харизма капризна. Это каламбурно звучит, но это похоже на правду.
П.П. В случае православия, меня, например, всегда интересовали религиозные тексты девятнадцатого века, когда почти совсем современные люди могли наблюдать собственными глазами эти древние монашеские дела, законсервированные в монастырях. Есть знаменитое, потрясающее описание Мотовилова, описание его встречи с Серафимом Саровским. Это "переживание на пеньке". Он попросил старца показать ему, КАК это быть в Духе, быть в Благодати. Тот повел его в лес, усадил на пенек и ввел на какое-то время в это состояние. Там очень подробное, очень достоверное описание этого райского, немыслимого блаженства. Но потом была чудовищная расплата, чудовищная компенсация - десять или пятнадцать лет с тела Мотовилова приходилось скребками счищать черную сажу, которая постоянно выступала изнутри. Процедура Медгерменевтики - это перевод всех этих, существующих в описаниях "райских состояний" в фазу "вторичных", дублированных фантазмов, отчасти редуцированных к "игрушеч-кам", которых можно любовно держать под подушкой, в зоне онейроидной релаксации. При этом степень их вторичности, "уменьшенности" и искусственности настолько значительна, что они механически отделяются от драматических коллизий "духовного пути", от различных терроризирующих компенсаций и опасностей, вызываемых напряжением коллективного сознания. То есть, если ситуация Мотовилова - это коллективная проблема целой традиции, то мы можем выделить из этой коллизии только пенек, установив его где-то в рамках собственного краевого канона и окружив приватизированным нимбом. Остальное все вне нашей скромной компетенции. То же самое с видением Касторпа. Что для нас важно? Что он, галлюцинируя, опирался на бревенчатый домик, сарайчик. То есть на "Ортодоксальную Избушку" Пустотного Канона, эту опору галлюцинирующих. Именно этот сарайчик и был прототипом того храма, который находился в видении у него "за спиной". Бревна, по-видимому: трансформировались в колонны. Этот сарайчик, в качестве далекой точки, Касторп видел в ясные дни со своего балкончика в санатории Берггоф, он всегда был для него объектом медитации. Достижение этого объекта совпало с получением "сатори". Сарайчик был заперт и неизвестно, что было внутри. Именно западная неприспособленность к неизвестному, склонность населять его фобиальными проекциями, и породила в сознании Касторпа "мерзости внутри Храма". На самом деле там было какое-нибудь гнилое сено.
В.Ф. Видение Касторпа не слишком загадочно. Останавливает на себе внимание эта статуя матери и дочери, отделяющая "мир мерзостей" от "мира прекрасного".
П.П. Я думаю, имеется в виду античный миф о Деметре и Персефоне, о богине плодородия и ее дочери, похищенной Аидом и ставшей его женой. Как известно, периодичность пребывания Персефоны на земле и в царстве мертвых мотивировала античную смену времен года. Но для меня лично просматривается более существенная матрица того элемента: игра в дочки-матери, в которую играют только девочки. Отношения дочки-матери - это отношения девочки и куклы. Куклу возят в коляске, баюкают, кормят. Когда девочка кормит куклу, она подносит ложечку с едой к ее рту, а потом быстро сама съедает содержимое ложки. Замкнутость игрушечного искусственного тела куклы замыкает на себя и тело ребенка, заставляет его постоянно указывать на себя как на Другое. Здесь мы снова имеем "швейцарский психоанализ", который кстати в "Волшебной горе" замечательно персонифицирован в фигуре доктора Кроковского, психоаналитика, компрометирующего себя оккультистскими рассуждениями и даже устройством спиритических сеансов.
Кроме того, кукла - это маленькая статуя с открывающимися и закрывающимися глазами. Тема век для нас одна из центральных. Человек, хлопая глазами, расчленяет мир на прозрачный мир зрения и непрозрачный мир тьмы. В случае куклы - это медитация между античными инкрустированными или нарисованными глазами статуй богов и буддийскими закрытыми глазами изваяний медитирующих Будд и бодхисатв. Встряхивая и раскачивая куклу, можно воочию наблюдать перетекание западной парадигмы в восточную и наоборот. Белки слепых глаз Гомера... "Звездная пустота глаз Деметры"...
В.Ф. По Фрейду мать и дочь связаны комплексом Электры. Мне вспоминается ваш текст "Электрификация космоса", где была целая серия каламбуров по поводу высказывания Ленина "Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны". Каламбуры были построены на травестии постстуктуралистского термина "де эдипизация", часто встречающегося в "Анти-Эдипе" Делеза и Гваттари. То есть по "Анти-Эдипу можно сказать, например, что "капитализм - это машины желания плюс эдипизация всей страны".
П.П. И опять же плюс, этот крестик сложения всего со всем. С тем же успехом можно сказать, что "медицин-ская герменевтика" - это Швейцария плюс медицина.
В.Ф. Вообще вся линия психоанализа, начиная от Фрейда, через все "ереси" и "версии", и "модернизации", через Юнга, Адлера, Райха, через Лакана и постструктуралистский шизоанализ - все это постоянно присутствует в нашей инструментальной иконографии как галерея "медицинских герменевтов". Ведь все они - от Фрейда до Делеза и Гваттари - и есть настоящие медицинские герменевты.
П.П. Но наиболее "правильным" медгерменевтом является доктор Кроковский, способствующий появлению истинной групповой галлюцинации во время "полукрими-нального" спиритического сеанса в санатории. Впрочем, он "правилен" только в тех случаях, когда опирается на запертый бревенчатый домик. И на гнилое сено внутри.
|